„Из шести детей в классе трое не пользуются даже родным языком“. Как переход образования на эстонский отразится на особых детях
(16)
В следующем учебном году Эстония начнет переход на эстоноязычное образование - первыми переходят ученики младших классов. К 1 августа 2024 года учителя и вспомогательные специалисты должны владеть эстонским языком на уровне С1.
Реально ли ввести второй язык для особых детей, которые зачастую начинают говорить даже на родном достаточно поздно? Есть ли у Эстонии методики, которые позволят смягчить языковой переход для особых детей? Хватит ли специалистов, отвечающих всем квалификационным требованиям?
Разбиралась корреспондент Новой газеты. Балтия Светлана Новосельцева вместе с работниками таллиннской школы для детей с особенностями Vivere.
Особенная школа в здании бывших царских казарм
Школа для детей с особенностями Vivere превосходит ожидания с самого момента знакомства. При слове „школа“ в голове всплывают определенные ассоциации — прямоугольное типовое здание, может быть, симпатично отремонтированное, но не более того. Скучные коридоры, стандартные классы, бледные стены, ровные ряды парт. Когда подходишь к дверям Vivere, хочется перепроверить адрес: полное ощущение, что ты попал не в школу, а в модный айти-офис.
Меня встречает приветливая женщина с рыжими волосами — это директор и основательница школы Юлия Столберова. Юля сразу предлагает общаться на „ты“.
Продолговатое здание бывших царских казарм, вытянутое, как пенал, внутри превращено будто в большую уютную гостиную. На стенах — милые картинки, веселое расписание уроков, под потолком парят маленькие бумажные самолетики, а между ними таблички, на которых виднеются слова „забота“, „дружба“, „мечтай“. По пути нам встречаются ученики — я наблюдаю их с Юлей общение. Они разговаривают на „ты“ — так я бы общалась со своей тетей.
„Как дела?“ — спрашивает Юля мальчика лет тринадцати в богемном шарфе. — Да ничего, вот живот болит. — А чего в школу пришел, дома не полежал? — Да чего дома сидеть, делать нечего. А у тебя как дела, как вечер прошел? — Работала допоздна.
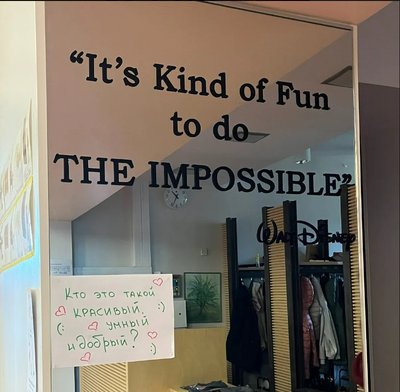
С улыбкой слушаю эти разговоры. Видно, что у этих ребят нет повода бояться ни Юли, ни чего бы то ни было в школе вообще.
Мы заходим в кабинет администрации, где работает Юля и ее коллеги. В маленьком кабинете все пестрит картинами, постерами, записками, игрушками. Сложно вспомнить, что именно там было. Хотя одна вещь запомнилась — большая картина звездного неба. Каждый ребенок сам нарисовал свою звездочку на ярко-синем холсте. Звезды разные — белые, желтые, красные, голубые, симметричные и ассиметричные, с хвостами и без хвостов. Пятиконечные, какие бывают на елках, четырехконечные, как в Питере Пене, и несколько шестиконечных звезд Давида. Каждой звезде есть место на этом синем небе.
Юля просит помощницу Лизу провести мне экскурсию — „Лиза, покажешь Свете дом?“. Лиза ведет меня по коридорам, мы через окошки заглядываем в классы, где идет урок — вот Мария Пукач, спецпедагог, занимается с особым мальчиком индивидуально, вот урок музыки, там шум и веселье, а вот класс занимается эстонским дистанционно — каждый сидит в наушниках перед айпадом.
Мне показывают выход в сад — за окном застекленный павильон, беседка, сложенные в стопку палеты. Когда тепло, уроки природоведения проходят на улице. Лиза рассказывает, что у каждого класса есть в саду своя грядка, и каждый что-то выращивает.
Поднимаемся на второй этаж. „А это — комната сенсорной интеграции“, — буднично говорит Лиза, как будто каждый из нас в какой-то момент дня захаживает в такую комнату. За стеклом вижу зал, мячи, обручи. Там с детьми работает Анжела — телесный психолог.
Яркое граффити во всю стену. „Это дети рисовали“, — рассказывает Лиза. — „В какой-то момент подростки стали рисовать на стенах туалета. Тогда Юля организовала им проект с художником, с которым они разработали эскиз и разрисовали стену, это было целое мероприятие. А в туалетах, кстати, рисовать перестали“.

На стене вижу почтовый ящик для пожеланий и предложений с почтальоном Печкиным — здесь можно отправить послание любому учителю или руководителю школы. Бесконечно замечаешь, сколько души в каждой детали. Неужели здесь когда-то были казармы?
Новое на старом. Красивый современный уют окружил и оживил старые кирпичные стены. Забота, горизонтальное общение, индивидуальный, новый подход к детям выросли над обшарпанным фундаментом старой системы образования.
Юлия Столберова основала школу Vivere пять лет назад. Мы садимся в пустом классе с кружками дымящегося ромашкового чая и начинаем разговор.
Расскажите, как вы создавали школу? Почему пришло решение основать такую школу в Таллинне?
У меня много ответов на этот вопрос. Самый очевидный и простой — у меня пятеро детей, и второй родился с очень сложным генетическим диагнозом. Когда встал вопрос о его образовании, я стала искать ему хорошую школу. У меня была другая работа, я занималась логистикой, очень её любила. Параллельно организовала некоммерческую организацию „Особый мир“, которая объединяла семьи, где воспитываются дети с особыми потребностями — без границ на диагноз и возраст.
Проект был уже тогда очень успешным, мы стали лучшим НКО года, что для русскоязычного НКО было прорывом. Я ничего не собиралась менять в своей деятельности, мой сын пошёл сначала в одну школу, потом во вторую, потом в третью, и уже после второй я поняла — это не то, что ему подходит.
Хотя с 2008 года с точки зрения законодательства были все возможности инклюзивно обучаться пограничному ребёнку — то есть такому, у которого интеллект сохранен, но есть другие особенности, — в массовой школе это не работало на практике по ряду причин. Мы попробовали сначала муниципальную школу, потом частную. Потом он уже пошел в Открытую школу Эстонии, Avatud Kool. Там дети с русским домашним языком и дети с эстонским учатся вместе — две недели на русском, две на эстонском, очень крутая идея. У них и так стоит задача со звёздочкой, я понимала, что ещё и детьми с особенностями им сложно качественно заниматься.
Поэтому мы договорились с ними, чтобы они взяли туда моего ребёнка по большому счёту для того, чтобы реабилитировать его и дать ему возможность понять, что школа — это всё-таки не только про то, что тебя будут там скотчем к стулу привязывать, у него была ужасная история первые два класса. И в Открытой школе с этим совершенно точно успешно справились. Мы с ними договорились, что мне нужно хотя бы два года для того, чтобы свою структуру создать, если я не найду ничего больше.
Наша школа началась с шести учеников в 2018 году. Среди них не было обычных детей, все дети с особенностями.
Но моя идея всегда была в том, чтобы дети учились вместе, и чтобы школа не была никакая особенная.
Мы однажды к этому придём, просто это очень длинный процесс, особенность нашей школы — в неформальном образовании и в атмосфере. То, что мы сочетаем внутри себя детей с особенностями и без — на самом деле и так право каждого ребенка по законодательству Эстонии. Просто оно не работает в муниципальной школе. Поскольку меня это через мою семью очень лично коснулось, я это реализовала.
Началось все с шести человек, а как развивалось дальше?
В следующем году 1 сентября было уже 32 ребёнка. И из них уже, наверное, человек восемь-девять были обычные, нормотипичные. В следующем году было ровно 60.
Сейчас 158 детей, и примерно 55% — это обычные дети. Во-первых, мы обязательно набираем первый класс в параллель один обычный, а во-вторых — подросткового возраста очень много ребят приходит. У них нет сложностей в обучении, но есть проблемы с буллингом, и ещё какие-то подростковые сложности.
Одна из задач школы — чтобы эти дети между собой учились экологично коммуницировать, особенные и „обычные“?
Мне кажется, что в 80% случаев можно говорить о том, что у детей вопросов, как коммуницировать с каким-то ребёнком, который на меня не похож, вообще не встаёт. Они подходят и спрашивают, а почему у него так, ты отвечаешь, почему, и всё. Вопросы больше возникают у взрослых.
То есть, проблем с буллингом не возникало?
Возникают, разумеется, у нас же живые дети, просто буллинг не на эту тему. „Кто-то отбил у меня девчонку“,“кто-то что-то не так сказал“, это обычный процесс. Я, конечно, не хочу сказать, что это здоровый процесс, но к нам многие дети приходят не с первого класса учиться, и у каждого уже есть большой багаж своих историй. С этим довольно сложно работать, не так, как если работать на превенцию. Так что проблема есть, просто суть буллинга не в том, что ты особенный или не особенный. Это другие, бытовые темы.
Когда создавалась школа, это была своего рода незакрытая ниша? Как вообще было в Таллинне, в Эстонии с пространством для особых людей?
Многие в Эстонии, кто занимается людьми с особенностями любого возраста, говорят о том, что есть нормотипичный человек и есть человек с тяжёлыми формами инвалидности. В основном всё делается для первых и для вторых.
Для тех, кто визуально выглядит окей, кто самостоятельно может есть, пить, ходить, одеваться и у кого нормальный интеллект — для них почти ничего нет.
Это обманывает нас всех: мы видим картинку человека, который похож на нас, и не думаем, что ему нужно много особых условий.
Это те ребята, которые сидят до пятого класса на задней парте с дефицитом внимания. Это те ребята, кого выгоняют уже в первом классе, потому что он плохо себя ведёт. А плохо он себя ведёт, потому что реагирует на шумы. Ему надо просто наушники надеть. То есть, когда интеллект — норма, это очень сильно обманывает всех вокруг. Мы начинаем ожидать и требовать от этих детей многого. Собственно говоря, для таких детей школа и открывалась.
Система образования, как известно, самая костная из всех государственных систем. Мир меняется, законодательство уже давно изменилось, а школе измениться довольно трудно. Законодательство было. Для всех детей. Проблема была в том, что школа как система не хотела этого разнообразия внутри себя.
Даже те инклюзивные классы, которые были на тот момент — а это было 8 лет назад — были попыткой провести интеграцию, а как выглядит интеграционный процесс?
Давайте представим, вот есть у нас система-школа, она вся для зелёненьких детей. То есть для всех одинаковых. В ней будет место для красненьких детей, но этих красненьких будут держать и не выпускать из кабинета до тех пор, пока они не начнут зеленеть.
Когда мой сын учился в первом классе в муниципальной школе, было такое, что с учителем его класса коллеги не хотели кофе пить. Ты с „этими“ работаешь? Зачем их вообще учить? Это на психоэмоциональном уровне, это наш менталитет. До сих пор ещё есть вот это „не смотри на парня в мануальном кресле, а то, не дай Бог, заразишься“. Такое еще есть, к сожалению.
Всё в законодательстве было, просто оно не работало, оно отчаянно не работало, причём у эстоноговорящих коллег стало работать гораздо раньше.
Как вам кажется, почему?
Сам подход у эстоноязычных коллег гораздо более либеральный. Вообще к процессу воспитания.
То есть, зависит от…
Менталитета. Они гораздо более спокойно относятся к различиям. Это не значит, что у них нет проблем и нет буллинга на эту тему, просто эстоноязычные учителя как сообщество гораздо раньше начали понимать, что надо меняться. Надо начинать принимать, надо пойти учиться.
Интеграционные классы, которые стремятся к тому, чтобы быть инклюзивными, у них стали появляться гораздо раньше, чем в русских школах.
В русских, кажется, так и не начали появляться, а теперь уже и не появятся. Поэтому не могу сказать, что была совершенно свободная ниша, возможности были. Но почему люди к нам ведут детей?
Я, наверное, смело могу сказать, что в Таллинне нет больше школы, у кого так много опорных специалистов. Еще сюда идут из-за того, что сама школа маленькая.
Если предположить, что у меня, например, расстройство аутистического спектра, то школа на 1500 человек или на 200 — для меня сильно разные вещи. Когда я вижу полторы тысячи человек или слышу их на перемене, для меня это ужас и кошмар. У нас небольшая школа с маленькими классами, и вы видите, что для меня очень много значения имеют атмосфера и помещение. В муниципальной школе нет возможности, ресурсов, иногда желания этим заниматься, а для нас это важно. Есть единицы детей, которые говорят: „я не хочу к вам ходить“. И мы с удовольствием их отпускаем. А так, даже если они не очень хотят учиться, они всё равно хотят приходить.
Если, допустим, в эстоноязычной среде была лучше ситуация, была ли у вас мысль отдать вашего сына в эстонскую инклюзивную школу?
Я бы отдала, вопрос, что он начал разговаривать и на домашнем языке, на русском, в 5 лет, и мне очень не рекомендовали вводить второй язык.
Но вообще я считаю, что если мы говорим о людях с особенностями, у них должен быть эстонский язык ещё лучше, чем у любого нормотипичного.
У него уже есть пункты, по которым он может проиграть на рынке труда, не надо давать ему повод проигрывать ещё и здесь. Мы много лет работали с Министерством образования и с локальными властями над тем, чтобы усилить программу обучения эстонскому, английскому, любому языку для детей с особенностями, чтобы они не оставались за бортом, когда им наступит 18. А пока, откровенно говоря, они обучались эстонскому по остаточному принципу. Им бы научиться каким-то базовым вещам хотя бы на родном языке.

Как устроено изучение языка для такого ребёнка? Он начинает говорить довольно поздно на родном языке. Нужно ли внедрять язык дома? Возможно ли вообще, чтобы такой ребёнок вырос с двумя языками, тремя языками, и какой нужен подход?
Это очень сложный вопрос. У нас в школе очень разные дети. У нас есть те, у кого никогда не будет речи, никакой, я имею в виду устную речь. Очень разные есть особенности у детей, очень разные диагнозы. Базово понятно, что ребёнок должен освоить процесс обучения сначала на родном языке. Относительно „дома начинать/не начинать“. Я за всё время — а я уже 14 лет этим занимаюсь — видела двух матерей, которые смогли совмещать роль мамы и роль учителя для своих детей одинаково хорошо. Я лично не могу. Да и знание языка и понимание, как его надо преподавать, у родителей может быть разное. Можно иногда сильно навредить.
Можете рассказать, с какими особенностями дети учатся в вашей школе?
Как я уже сказала, 55% — это нормотипичные дети. Очень часто встречаются такие диагнозы, как дисграфия, дискалькулия, дислексия, синдром дефицита внимания, расстройства аутистического спектра. У нас есть пять классов — это малые классы по шесть человек — в которых учатся дети с лёгкой степенью снижения интеллекта. У нас есть ребята на мануальных электрокреслах. Это, наверное, самое распространённое.
Как в Эстонии со специалистами по коррекционной педагогике?
Их вообще не хватает. Эстония — такая маленькая страна, у нас вообще плохо с человеческим ресурсом. За последние 2 года очень изменились квалификационные требования к учителям. Кто-то, может быть, был бы готов работать, но — квалификационные требования. Вот троих учителей нам пришлось попросить уйти. Сейчас, чтобы работать учителем, должна быть магистратура, языковая категория B2 и учительский разряд.
Найти человека, который у тебя на месте и ему интересно, что он делает, очень сложно. У нас есть местные коллеги, которые здесь жили и работали много лет, много берём молодёжи — тех, кто учится в магистратуре, нам, конечно, за них тоже достаётся, что они не квалифицированы, но по-другому никак. Мы должны сейчас уже показывать им, как мир изменился, и что им придётся работать, учитывая всё многообразие. Есть несколько коллег совершенно потрясающих, которые приехали как из России, так и из Украины — кто-то до войны, кто-то после начала войны. С обеих сторон.
Новые требования о переводе всего образования на эстонский подразумевают, что каждый учитель теперь будет должен иметь уровень эстонского С1. Как это затронет школу, как придётся с этим жить? Потеряете ли вы педагогов, станет ли это каким-то стрессом для детей?
У нас очень льготные условия. Это точно совершенно изменится, но пока что этот год, и, думаю, еще несколько лет, частные школы продолжат работать на том языке, который они выбрали. Мы, конечно, должны всячески мотивировать учителей продолжать учёбу и внедрять максимально всё, что мы можем и знаем на эстонском — но это и наша цель тоже, это не идёт сейчас вразрез.
Если бы нас заставили как муниципальные школы — завтра переходить, это была бы катастрофа. Сейчас для нас пока не катастрофа, я на самом деле рада, потому что, как я уже говорила, у особого ребёнка должно быть максимально много преимуществ. Это жизнь.
Специалистка, которая мне как маме когда-то сказала впервые о диагнозе сына, мне прямо вбила мысль, что единственное, что я могу и должна для него сделать — это научить его жить без меня. В этом контексте многоязычие, особенно в стране, где русский — негосударственный язык, очень важно. Разумеется, есть дети, которым будет сложно, но то, что мы можем сделать мягко, мы должны делать.
Мы сейчас уже дублируем все основные слова на эстонском, чтобы они детей не пугали.
Если у детей особенности интеллектуального плана, я верю в то, что первые три года надо учиться на русском, конечно, дублируя, чтобы язык был на слуху, и только потом уже переходить. Будем подтягивать учителей. Мы за то, чтобы максимально прийти к эстонскому. Другой вопрос, нам важно, чтобы дети сохраняли свою идентичность, поэтому сколько можно будет оставить на русском, столько мы оставим на русском. Если нельзя будет ничего однажды, значит мы оставим всю проектную деятельность на русском и про русский.
Но есть и техническая сторона вопроса. Я не верю, что хоть одна школа Эстонии найдёт учителей, которые будут соответствовать требованиям. Вернее, я могу найти таких учителей, но будет огромное количество вопросов к качеству их работы. Можно найти шикарного учителя, но он не умеет работать в многоуровневой группе. Или наоборот, можно найти человека, который прекрасно работает в многоуровневой группе, но у него нет другого навыка.
И эта проблема гораздо серьёзней. У меня один ребёнок учится в муниципальной школе, я смотрю, как там эти процессы происходят. Их поколение не выучит эстонский на том уровне, который нужен. Но и русский они тоже уже не выучат, потому что упор идёт на эстонский. Школы вынуждены, чтобы их не закрыли, брать кого-то, кто соответствует так или иначе, и терпеть то, как они выполняют работу.
Если представить себе худший сценарий, где со следующего года на работе смогут остаться только преподаватели с С1?
Я плохо себе представляю такую жесткую ситуацию. Мы часто проходим госнадзор, министерство образования приходит к нам каждый год и все проверяет — от отопления до бухгалтерии. Любой госнадзор в Эстонии — он не про то, чтобы прийти тебя и наказать. Он больше про то, чтобы тебе подсказать — лучше тебе в этой ситуации, наверное, сделать вот так. И я тебе даю время, сколько тебе надо — полгода, год? Больше года не могу, так что давай, соберись.
Поэтому я с трудом представляю себе такую ситуацию, но если бы она была — наверное, 90% педагогов, которыми школа очень дорожит, мы бы смогли сохранить. Теми или иными путями.
У нас как раз вчера было собрание, я поздравляла двух учительниц — одна из России, вторая из Украины, и они сдали язык на B2. То есть процессы идут. Кто хочет, тот учится. Это не так просто. Как я понимаю, некоторые не идут учиться, потому что не знают, где в пятилетней перспективе будут жить. Но мы будем двигаться все равно, будем стараться сохранять кадры — переводить их в группы продлённого дня, в необязательную деятельность.
То есть вам кажется, что если на год отсрочку дадут, а за этот год вы всё успеете?
Да, но! У нас же неспроста сейчас так остро звучит тема перехода на эстонский язык. Надо понимать контекст, что уже лет пять мы все отчаянно страдаем от нехватки учителей на любом языке. С любым квалификационным набором. Ну хоть кто-нибудь, придите, проведите, не знаю, географию у старшей школы. Все школы друг у друга таскают этого несчастного человека, пытаются выстроить вместе расписания, чтобы он ездил в несколько школ. И вот в этой связи, когда у нас и на русском, пусть вообще без эстонского, но даже таких нет?!
Очень сложно говорить о том, что мы сейчас переходим на эстонский, и вдруг они откуда-то появятся. Вопрос, а кто эти люди будут? Кто появится? Они вообще понимают что-нибудь про педагогику или про предмет? Вот в этом смысле страшнее.
Можно услышать, что переход на эстоноязычное образование негуманен по отношению к особым детям, что они остаются за бортом. Что вы об этом думаете?
Если мы говорим не про нашу школу, базово, конечно, это катастрофа. Очень многие останутся за бортом. Катастрофа, и совершенно точно потерянные лет пять. Пока учителя настроятся, пока они придумают, как.
Мы же понимаем, что это глубоко политическое решение, за которым не стоит никакой логичной подготовки, а подготовка нужна.
Окей, даже опустим время, но другие ресурсы нужны. Методики нужны, материалы в помощь учителям. Предположим, что ряд учителей стоит и говорит — эгегей, мы готовы, давайте с завтрашнего дня на эстонском учить, я эстонский знаю! Как? Как учить полностью на эстонском ребёнка, у которого домашний язык русский и у которого есть сложности?
С любым языком ты можешь быть преподавателем языка как родного либо преподавателем языка как иностранного. Мы сейчас говорим государственно о том, что у нас должен быть класс, в котором дети с домашним эстонским и с домашним русским учатся вместе. Получается, у нас в одном классе дети, которым надо преподавать эстонский как родной, дети, которым надо преподавать эстонский как иностранный и дети, которые с русским языком, но они и русский-то как иностранный изучают. Как, что это должен быть за специалист?
Я сразу вспоминаю это российское министерство образования. Три года назад мы организовывали встречу эстонского и российского министерств, и вот они нам сказали, что откроют факультет, где учитель будет учиться семь лет, и он будет одновременно логопедом, дефектологом, учителем-предметником, классным руководителем, психологом, по-моему, восемь или девять у них было пунктов! Немножечко везде будет соображать. Похоже, наш учитель тоже должен быть таким.
Понятно, что дети с домашним языком эстонским потеряют в качестве, дети с домашним языком русским очень долго будут врубаться, а такие вот, как этот особый ребёнок, вообще ничего не получат. Это просто будет обязательное время в школе. Да, негуманно, но я думаю, что неизбежно. Возрастет потребность в частных школах на русском языке, другой вопрос, будут ли давать лицензию.
Какое идеальное решение вы видите, чтобы школа хорошо и спокойно жила дальше?
Мне бы хотелось, чтобы нам дали время. Разумное время, потому что нам оно нужно. И если говорить о стране розовых единорогов, хотелось бы, чтобы откуда-то взялись ресурсы. Для нас сейчас важнее не денежные ресурсы, а человеческие — чтобы откуда-то взялись специалисты, которые готовы работать. Но понятно, что их нигде не возьмёшь. С русским языком обучения мы еще можем привлекать хороших зарубежных специалистов, а если мы говорим о том, что они должны работать на эстонском — ну где, из каких других стран их привлечёшь, нигде больше никто на эстонском не говорит. Тогда нам нужно только время.
Может быть, я чрезмерно смелая. Мне кажется, что с вызовами, которые касаются сейчас негативного отношения к вообще русской культуре, я могу справиться.
Понятно, что любой насильственный перевод образования на что-то, к чему не готов конечный потребитель — в нашем случае, дети — это катастрофа.
Катастрофа очень ожидаемая, мы давно уже знали, что к этому идет. Другой вопрос, что я не знаю, кто придумал, как с этим работать. Никто ещё не придумал.
Мы с Юлей договариваемся увидеться позже — на уроке географии. А пока я ищу Марию Пукач, спецпедагога школы — поговорить о том, как переход на эстонский отразится на психике особых детей. Маша проводила свой класс на прогулку, и у нас выдалось полчаса, чтобы пообщаться.
Мария Пукач — психолог и дефектолог из Москвы. Год назад она покинула Россию и теперь живет в Таллинне.
Кто в Москве и в России в целом хоть как-то касался темы особых детей и коррекционной педагогики, тому сложно не знать имя Маши — это многочисленные интервью о дефектологии, лекции и семинары по всей стране, изданные материалы и методики, множество популярных работ об особом родительстве, 21 год работы в Центре Лечебной Педагогики. На личные консультации к Маше выстраивались очереди, и выстраиваются до сих пор. Теперь этот удивительный педагог и специалист работает в Таллиннской школе Vivere.

Расскажите, как вы приехали, как нашли эту школу?
Решение уехать было из-за войны и из-за несогласия с происходящим. У меня был в тот момент 11-й класс очень сложных детей, которых я взяла первоклассниками и вела до выпуска, поэтому я не могла уехать сразу, но уже начала искать работу. Я спросила у своих друзей в Таллинне, семью, у которой особый мальчик, как дела в Эстонии, и они мне сказали, что здесь есть дефицит специалистов коррекционной сферы. Они свели меня с Юлией Столберовой, и мы довольно быстро нашли общий язык. В школе искали учителя в класс детей с особенностями и предложили мне стать этим человеком. Я сюда приехала уже вот под эту опцию.
Здесь в этом плане прекрасное место, в школе собрались люди, которым интересно, они не боятся особых детей.
Как у таких детей, как в вашем классе, устроено изучение иностранного языка? Можно ли как-то заменять русский на эстонский? Есть ли какая-то возможность их научить второму языку?
У меня в классе шесть детей, они все сложные. У них огромные трудности с коммуникацией, они только к семи годам дозревают до возможности как-то справляться с одним языком. Из шести наших детей трое не пользуются даже родным языком. Поэтому получается, что единственный способ во-первых общаться, а во-вторых учиться — это русский язык.
Взять и у особого ребёнка сделать в голове два языка — нереально, поэтому для них, конечно, должен оставаться русский язык обучения. Это принципиальная для моих детей вещь.
В целом язык — это средство выразить свои потребности и понять, что происходит вокруг. Сначала должно развиться понимание речи. Должно накопиться столько слов в голове, чтобы ты, слыша речь, мог её понять. У наших детей очень усложнено восприятие, например, они могут понимать какие-то чёткие короткие повторяющиеся конструкции, а если ты перефразируешь мысль, они её не поймут.
Второе — нужно запомнить , что объектам, предметам и явлениям принадлежат определённые слова. Запомнить эти слова и в нужный момент, когда говоришь о предмете, объекте, явлении или своей потребности, использовать нужное слово и нужную конструкцию. Это вторая огромная проблема.
Из шести детей в классе трое не могут сформулировать свои потребности, ответить на вопрос или позвать.
Если к 16 годам у них на родном языке сформируется возможность понимать, что им говорят, и участвовать в коммуникации, это будет важным шагом к их автономии. С родным языком это уже огромная задача. Теперь рядом возникает другой язык, то есть нужно построить ту же самую систему координат — запомнить слова, понять, что они значат и научиться свои потребности выражать, уже на другом языке. Это отдельная задача, которая, как минимум, не может решаться быстро.
Самое главное — помнить, что мозг особого ребёнка — это отдельный другой мозг. Не то, что мы сейчас что-то отрезали, уменьшили количество слов и вот, давайте то же самое, как обычным детям, но в меньшем количестве. У особого ребёнка другие механизмы развития, и мы не можем заявлять, что сейчас поставили задачу к какому-то году „переехать“ на другой язык, и особые дети должны успеть. Они могут начать переезжать, но этот процесс, как минимум, медленный, он многолетний.
Как это может выглядеть? Как дублирование. Не замена — мы не можем просто перестать один язык использовать и начать использовать другой, у них это вызовет, помимо дезориентации, ещё и сильную дезадаптацию. Они откатятся в своём развитии. Это будет мешать им выражать свои потребности, они не смогут сказать, что они хотят. То есть просто заменить не получится, нужно ставить рядом второй язык и постепенно организовывать параллельную нейронную сеть.
Мы в классе пытаемся это делать. Например, мы говорим „дай мне“, чтобы ребёнок понимал, чего от него хотят, и параллельно через раз говорим „anna mulle“, подкрепляя жестом или картинкой. Тогда у ребёнка склеивается, что „дай мне“ и „anna mulle“ значит одно и то же. Вот в таком параллельном дубляже что-то можно нарастить, и съехать на эту параллельную сеть тогда, когда ребёнок будет к этому готов.
Есть ещё вопрос контента. На эстонском языке контента для особых детей довольно мало. Многие учителя в нашей школе либо подбирают параллельный русскоязычный контент, либо переводят эстонские учебники и тетради на русский язык. На русском языке ты можешь выбрать разноуровневые задания, миллион наглядных пособий — вот мы проходим слоги, есть множество вариантов, как ты можешь их пройти — очень много всего написано, напечатано, опубликовано. Если ты учишься по эстонским учебникам, то, во-первых, дети их не понимают, их нужно переводить, а во-вторых, у тебя нет большого выбора, в какой обёртке ты можешь эти слоги подать.
К чему я это веду, особые дети — это не дети, которым надо просто программу подсократить: ножницами отрезали и дали то же, что и обычным.
Им нужно по-другому подавать материал, у них огромные трудности абстрагирования, обобщения, понимания скрытых смыслов, причинно-следственных связей, у них низкий объём рабочей памяти. Если мы хотим их учить по-эстонски, то должны разработать отдельную методическую базу. Мы должны им дать какие-то простые вещи, которые помогут им — например, продублированные картинки, где написано крупно по-русски и крупно по-эстонски, продублированные схемы предложений, что-то, что им поможет туда встроиться. Сейчас я сколько ни ищу, ничего этого не вижу. Это нужно создавать самим.
Условно, была бы какая-то специальная тетрадка, где мы начали по-русски, а закончили по-эстонски, где мы постепенно вставляли бы какие-то слова эстонские, потом еще больше слов, потом сделали бы предложение из этих слов, и, например, в конце тетради мы вообще отказались от русского языка и переехали на эстонский.
С точки зрения дефектолога — нормален ли вообще для особых детей перевод для другой язык? Правильно ли это?
Я думаю, что это уже неизбежно. Если мы говорим о рабочих местах для некоторых детей и о какой-то профподготовке, то, конечно, да.
Мы уже как данность используем то, что не будет параллельного второго языка, а будет базовый эстонский — то есть надо перестраиваться.
Но должно быть всё-таки время наблюдения за динамикой. Мы хотим детей перевести, но мы не можем вставить им флешки и вживить объём эстонских слов в мозг. Мы должны наблюдать, как они переходят, как они это усваивают, какие им нужны опоры, какие способы помогают?
На все это хорошо бы заложить какой-то экспериментальный период, из которого мы сможем сделать выводы. Не просто покрутились-покрутились, отчитались, а потом получили детей, которые уже подросли и не могут пользоваться эстонским, потому что мы это сделали кое-как. Надо искать, что на самом деле помогает. У нас же дети продолжают рождаться, и дети с особенностями будут рождаться, и в Эстонии, и в русскоязычных семьях.
Нужно „обкатать“ систему, которая будет эффективна на длинной дистанции. Сделать это внимательно, наблюдать, что идёт, а что не работает. Что, например, семьи должны делать, чтобы дети владели какой-то базой — те же 200 слов, 20 фраз, которые мы считаем базой владения языком.
Пока мы не знаем. Пока у нас период неизвестности, который не должен быть тем периодом, где мы что-то формально сделали и отрапортовали. Надо по-честному смотреть, а возможно ли это? Реально ли это с особыми детьми?
Расскажите, как вас лично касается перевод на эстонский. Успеваете ли сдать на С1?
Когда я приехала и провела в Эстонии 2 месяца, к нам в школу пришла языковая комиссия. Мне вынесли предписание выучить за один год язык на B1. Я не думаю, что это реально для человека, который работает много, пусть даже и интенсивно учит язык. В Тартуском университете 4 или 5 лет учат язык на B2 с нуля и занимаются только этим.
Задача была малореалистичной, но я решила её выполнять, отправилась на курсы А1, окончила их, сдала тест. Когда я получила вид на жительство, тут же подала заявку на курсы от кассы по безработице, и мне одобрили курсы уровня А2-B1 на этот учебный год. Сейчас мне повторили предписание сдать язык на B2 к августу 2024 года, что тоже для меня малореалистичная задача, потому что курс B1 у меня закончится только в июле — тогда я смогу попробовать сдать экзамен на B1.
Я уже дважды не вписалась в предписание языковой комиссии. Насколько я понимаю, следующий раз будет уже штрафным, то есть будет какой-то финансовый штраф для меня или для школы. Насколько я понимаю, договор у меня срочный, и он как раз ограничен августом 2024 года. В целом все учителя, которые хотят оставаться учителями, должны будут иметь категорию C1 со следующего учебного года. Поэтому я вижу, что точно не попадаю в заданные темпы, и если эти темпы могут как-то пересматриваться, я готова учить язык.
Понятно, что на изучение нужно хоть какое-то время. Невозможно действительно выучить язык за несколько месяцев. Это процесс, и довольно длинный.
Я бы завершила тем, что эстонское коррекционное образование очевидно нуждается в руках, в специалистах, в педагогах.
Есть очень много детей, которым действительно нужна специальная помощь, и очень важно, чтобы были возможности эту помощь оказывать. Эта категория детей довольно значительна, и она никуда не денется, поэтому нужно, чтобы были специалисты, которые остаются в этой сфере и продолжают помогать. От этого зависит напрямую, какое будущее будет у особых детей. А особых детей довольно много, по статистике — до 12% в любой стране.

Маша поспешила на урок. А мне перед уходом мне разрешили побывать на уроке географии, где директор Юля заменяла педагога. В маленьком классе 10 подростков, парты стоят не рядами, а сдвинуты в свободном порядке. Одна ученица сидит на стопке кресел-мешков, укрывшись пледом. На ней шумоподавляющие наушники. Другая сидит за партой и обнимает пушистую серую подушку. Каждый одет, как ему нравится. К Юле обращаются на „ты“, Юля по очереди выслушивает каждого, помогает.
Я сижу в конце класса на мягком коврике с подушками — это зона, куда ученики могут прийти полежать, если устанут. Слушаю урок и пытаюсь понять, что это за ощущение, что за фактор, который так отличает этот класс от моих школьных воспоминаний. Вот они сидят, делают задания, как и в любой другой школе. Кто-то учится, кто-то скучает, кто-то болтает. И нащупываю — нет страха. Ни у кого.
Каждый из этих интересных, красивых, необычных детей спокоен и не боится, что его не примут. Нет поводов бояться, что на тебя поднимут голос, отвергнут, унизят. Они знают, что здесь их слышат и видят. С ними общаются на равных, их уважают. Очень важно получить такой опыт. Даже мне, наблюдателю.
Не хочется из домашнего тепла школы выходить на холодную улицу. „Приходи еще, просто так“, — зовет меня Юля.
Выхожу из кирпичного здания. Забавно, что школа находится в старых казармах, когда всем своим существом противоречит этому слову.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.